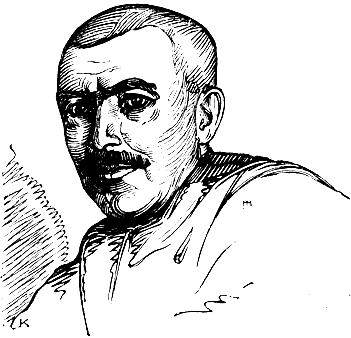Из очерка Максима Горького «Иван Вольнов»:
Из очерка Максима Горького «Иван Вольнов»:
«Я был уверен, что Вольнов начнёт писать «под Бунина». Он уже работал над «Повестью о днях моей жизни», просиживал над нею ночи, стал молчаливее, осунулся и ходил глядя в землю, точно боясь споткнуться, рассыпаться. Часто спрашивал, как надобно писать о том или о другом, но советы слушал исподлобья и, чувствовалось, не верил им. Его спрашивали:
— Как идёт работа?
Он отмалчивался, но как-то раз сказал:
— Трудновато. Приходится в одно время и пни корчевать и кружева плести.
Но уже ясно было, что советам он не верит из боязни заговорить чужими словами.
Когда он принёс первые главы повести, меня очень неприятно удивила его напряжённая, крикливая манера читать; он кричал как будто из окна в толпу или стоя на телеге. Но оказалось, что так крикливо, коротенькими, резкими фразами повесть была написана, фразы эти сливались в сплошной вопль и рычание, чтение имело характер спутанной речи, которая одновременно обвиняла и защищала. Диалоги он торопливо и невнятно бормотал, а описания — выкрикивал, даже как будто выпевал. Лицо у него налилось кровью. Кто-то из слушателей посоветовал:
— Не читайте бегом!
Эти слова очень верно определяли общее впечатление, — действительно казалось, что чтец не сидит, а именно бежит, перепрыгивая через какие-то ямы и кочки, торопясь достигнуть цели. Видно было, что и писал он «бегом», спеша рассказать как можно больше тяжёлого и страшного. Одна за другою, но бессвязно, необъяснённо следовали сцены драк, избиения баб, детей, лошадей, мужик перегрызал горло живому петуху, ревнивая баба вывёртывала сосок груди пьяной бобылки. Повесть каждой страницей кричала:
«Вот как страшно! Вот как! А ещё — вот как! И — вот как!»
Кончив читать, Иван смял рукопись, сунул её в карман и, отирая пот с лица, сказал:
— Ну, знаю, что плохо! Сам слышал, — ни к чорту не годится!
Борис Тимофеев подтвердил эту самокритику:
— Да, это ты — набухал сгоряча! Всю свою губернию дёгтем и кровью вымазал.
— Не стоит говорить, — согласился Иван, приглаживая волосы, рука его дрожала.
Ночью, на берегу моря, сидя в камнях, посеребрённых луною, в необыкновенной, тоже как бы окаменевшей тишине, которая возможна только над равниной спокойной, тяжёлой воды, Иван рассказывал:
— Я — не писал, а — спорил. Сам понимаю, что этого не надо было делать. Но хотелось показать, что я знаю страшного и подлого больше, чем знают Бунин, Чехов и всякие Родионовы (Родионов — земский начальник в Боровичах, Новгородской губернии, автор нашумевшей книги «Наше преступление». В этой книге он изобразил крестьян и рабочих-керамистов очень мрачными красками -М.Г.). Вот в чём ошибка. Желаете правды? Вот вам — правда! У меня её больше, чем у вас, и моя — тяжелее! Вы её издали видите, а я родился в ней, жил, буду жить!
Он очень долго и горячо говорил о том, что Тургенев, Григорович, Толстой изображали крепостных мужиков мягко, осторожно.
— Когда я читал их, так — оглядывался: разве это наши крестьяне — орловские, тульские, калужские? Места — наши, а мужик — не наш! У нас таких тихоньких — нет, я таких — не знаю, не видел. Я знаю страшного мужика, он живёт в грязи, в тоске, он — дикий и несчастный. Значит — что же? При крепостном праве — мужик лучше, благообразнее был?
Покуривая тоненькие итальянские папироски одну за другою, бросая окурки на застывшую воду, он говорил о «Подлиповцах» Решетникова:
— Они — где-то у черта на куличках, от моей совести — далеко! А вот от моей деревни до Москвы триста вёрст. В Москве — университет, консерватория, Третьяковская галерея, Художественный театр и черт её знает что ещё! А у меня в деревне — домовые, ведьмы, коновал лошадей портит, рожениц сквозь хомут пропихивают… понимаете?
После этой ночи он стал несколько доверчивее, откровенней, снова принялся работать над повестью и начал больше читать. Прочитал «Мужиков» Бальзака, «Землю» Золя, романы Ренэ Базена, Эстонье — французы успокоили его:
— Пишут деловитее наших, — сказал он.
Он легко находил общее между иностранной и русской литературой; прочитав «Последнего барона» Лемонье, он заметил:
— Это — тоже «Суходол».
1931 год