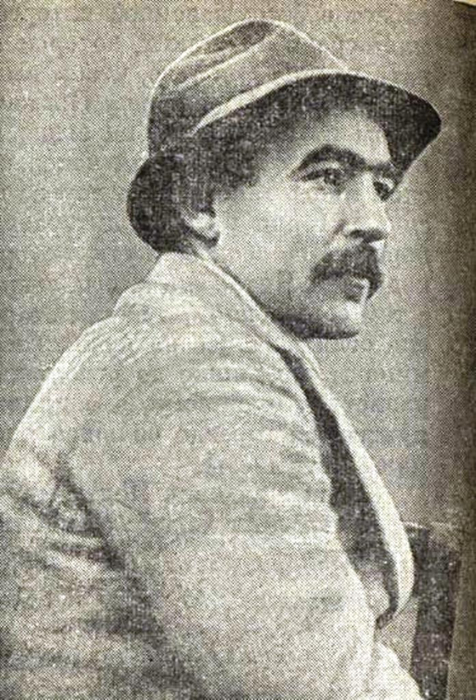Из очерка Максима Горького «Иван Вольнов»:
Из очерка Максима Горького «Иван Вольнов»:
«Живя в Сорренто в 1928 году, Иван писал повесть, читал начало её, и мне казалось, что эта повесть будет наиболее зрелым произведением его. Начиналась она сценой возвращения эмигранта-революционера в деревню, его встречей на станции со своим отцом и торжественной встречей, которую устроила эмигранту деревня. В этом торжестве, смешном и трогательном, отец эмигранта не принимает участия, он, в стороне, спрятался под телегу и горько плачет. Из дальнейшего оказалось, что в 1906 году отец, желая спасти сына, выдал его товарищей полиции, а сын, узнав об этом, стрелял в отца и ранил его. Мне вспомнились слова Вольнова, сказанные им давно на Капри по поводу Азефа: «Бывало, что отцы выдавали детей жандармам». Повесть имела характер явно автобиографический, и я спросил Ивана: не его ли это отец? Он задумался, глядя на страницу рукописи, потом, встряхнув головою, хотел что-то сказать и — не сказал ни слова. А дня через два спросил неожиданно:
— Может быть, лучше — выкинуть отца-то?
Я посоветовал ему не делать этого.
— На мелодраму похоже, — пробормотал он, но тотчас же добавил: — Впрочем, мелодрама — тоже правда. Если — плохо, так уж — всегда правда.
И не торопясь, взвешивая слова, рассказал:
— В 1906 году было такое — сына должны были арестовать за участие в террористическом акте: убил шпиона и ранил стражника, и сам был ранен; отец террориста, лесник, тоже участвовал в этом акте, но никак не мог помириться с тем, что сына повесят, и сам застрелил его, а потом покаялся попу, тоже эсеру, но поп — выдал его. И отца повесили в орловской тюрьме.
Рассказав, он помолчал и тихонько добавил:
— Об эдаких делах хорошо бы забыть.
В другой раз он сердито пожаловался:
— Тяжело писать! Чорт её дери, эту правду прошлого! Из-за неё ничего не видно…
Как раньше, он всё ещё поругивал деревню, мужиков; было уже ясно, что он делает это по привычке и по желанию быть объективным. Но уже и в словах и в глазах его сияла твёрдая вера, что бедняцкое крестьянство встанет на ноги. Он говорил:
— Годка через два-три увидите, как покажет себя мужик в колхозах! Замечательно покажет! Он умный, он свои выгоды четко понимает.
В нём, несмотря на его обычную сумрачность и перегруженность знанием страшного, сохранилась душевная мягкость, даже нежность, воспитанная, должно быть, грустной природой русской равнины. Он стыдился этих чувств, всячески гасил их, неумело пытался скрывать под личиной грубости и — не мог скрыть. Как раньше, на Капри, так и теперь, спустя почти двадцать лет, он снова на юге Италии восхищался красотой природы, её неутомимым плодородием и негодовал:
— Одним — апельсины, виноград, оливы, а другим — еловые шишки…
Жил он напротив дома, где я живу, ежедневно бывал у меня, но иногда, вдруг, не являлся двое, трое суток, это значило, что он — пьёт. Это уже был «запой». Я слышал, что вино и убило его там, в деревне.
Жалко. Он был ещё молод, очень талантлив и мог бы написать весьма ценные, яркие книги. Он не мог освободить себя из плена проклятой «правды прошлого», и эта правда долго мешала ему видеть, как мощно и продуктивно работает энергия людей, которые вырвались из-под гнёта старой, убийственной правды.
Он всё искал, «кому жаловаться» на страшную жизнь мужика, и не мог понять, что существует и уже правильно действует единственно непобедимая сила, способная освободить крестьянство из-под тяжкой «власти земли», из рабства природы.
Он долго не верил, что сила эта — разум и воля рабочего класса и что на этот класс историей возложена обязанность вырвать всю массу крестьянства из цепких звериных лап частной собственности, уродующей жизнь всех людей. Не верил, что силища рабочего класса несёт крестьянству действительное — и навеки! — освобождение от каторжной жизни.
Но жизнь, суровый наш учитель, всё-таки заставила его поверить в то, что очевидно, неоспоримо, и он, талантливый писатель, горячо взялся за трудную работу организации деревни на началах коллективизма.
Как всякий честный человек, он нажил себе не мало врагов, но неизмеримо больше друзей. Хоронить его собралось несколько тысяч крестьян-колхозников, и он был похоронен как настоящий революционер, с красными знамёнами, пением грозного гимна, в котором всё более мощно, всё более уверенно звучат слова:
«Мы — свой, мы новый мир построим!»
1931 год